ПОЭТ
«Вальвер (презрительно) – Поэт?
Сирано – О, да, поэт. И для стихов своих я уж
нашел предмет.»
«Сирано де Бержерак», Эдмон Ростан,
перевод Щепкиной-Куперник.
Соломон Михоэлс любил повторять фразу: «Талант – как деньги. Либо он есть, либо его нет».
Талант – это особое, загадочное устройство то ли мозга, то ли сердца, то ли того и другого вместе взятых. Люди привыкли называть талант «даром Б-жьим», высочайшим из подарков, который можно получить в день рождения. Владимир Жаботинский такой подарок получил. Известно, что одаренность бывает и благословением и проклятием ее носителя – в зависимости от обстоятельств. Проклятием и мукой дар становится тогда, когда нет возможности его реализовать. Тогда он сжигает изнутри, он рвет сердце. Жаботинский и умер от разрыва сердца. Да, конечно, он счастливо переступил роковой порог цифры «37» и покинул этот мир в солидных, по меркам творческих жизней, годах, в шестьдесят. Возраст, в котором уже почему-то считается приличным умирать. Правда, лишь поэтам. Политики, если их не убивают, живут, как правило, дольше.
Любопытно был бы провести статистический опрос, на тему: «Кем для вас является Владимир Жаботинский?». Понятно, что ответы: «не знаю», «известный цирковой артист, мастер поднимания тяжестей» отметаются сразу. Нет, такой вопрос стоит задавать не невеждам, а тем, кто в курсе, о ком идет речь. Ответы были бы разными, очень разными. Одни сказали бы – политический деятель, другие вымолвили бы – известный сионист, и, в зависимости от убеждений, слова бы эти произносились с негодованием, равнодушием или гордостью. Возможны, также, варианты: один из основателей современного Израиля, создатель Еврейского легиона и Бейтара. Идеолог и воплотитель практического сионизма, ревизионист, фашист (и такое, между прочим, приходилось слышать). А еще – оратор, публицист, драматург, писатель… И редкий человек вымолвил бы: «поэт». А между тем, именно он был бы прав, потому что такое определение вместило бы в себя все предыдущие, за исключением, разумеется «фашиста», отпущенного Жаботинскому презренными устами.
Суть любой личности раскрывается не сразу и не вдруг. Суть личности яркой, многоплановой, многогранной – тем более. Суть Жаботинского раскрывается постепенно. Как постепенно возвращалось наследие Владимира (Зеева) в родной город.
В начале 1990-х в одесских газетах пополоскали его имя на предмет политической деятельности. Потом пришел черед романа «Пятеро». Книга появилась в израильском издании «Библиотека – Алия», затем была издана одесскими «Друком» и «Оптимум». Чуть поздней приоритеты издательств выглядели так: в «Друке» вышел том стихов Бялика в переводах Жаботинского, и в той же серии «Я – сын своей поры» – сборник стихов и переводов Владимира Евгеньевича. «Оптимум» выпустил «Самсона Назорея», а затем «Слово о полку». В литературном музее, в стенах дворца князей Гагариных прошла конференция, посвященная 120-летию со дня рождения и 60-летию со дня смерти знаменитого одессита. Там же была организована чудесная выставка, представляющая его одесский период жизни, в том самом зале, где когда-то состоялись первые публичные выступления молодого корреспондента, взявшего себе псевдонимом итальянское слово Altalena, «качели». В общем, на сегодняшний день Жаботинский, если не во всех своих проявлениях, то в очень многих представлен в Одессе.
Пожалуй, наиболее сильное впечатление на всех, кто соприкоснулся с личностью Владимира Евгеньевича, произвел роман «Пятеро», пожалуй, вторая после Пушкина по влюбленности, нежности и поэтичности «грамота на бессмертие», выданная городу. И, в общем, после высочайшей литературной, нравственной, поэтической планки, взятой Жаботинским в этом романе, ему трудно чем-нибудь поразить читателя, тем более читателя-одессита.
Не вызвал особого резонанса выход в свет в городе «Самсона Назорея». А это ой какая не слабая книга, очень и очень притягательная, чреватая глубинными смыслами и неожиданными открытиями. К разговору о «Самсоне» мы, быть может, еще вернемся, если будет на то благорасположение звезд. А пока стоит сказать, что в безразличии читателей к этому роману даже можно усмотреть некоторое мистическое заклятие, тяготевшее над Жаботинским, особость, необычность его литературной судьбы. «Почти ни одна из моих книг не удостоилась переиздания» – пишет он в блистательном публицистическом опусе, «Повести моих дней».
Выход книги переводов стихов Хаима-Нахмана Бялика, труда, осуществленного Жаботинским, все же более имеет отношение к литературному наследию самого Бялика, нежели Владимира Евгеньевича. «Некоторые утверждают, что число читателей Бялика на русском языке превышало число тех, кто читали его на древнееврейском. Если это правда, то благодаря Бялику, не мне…» – утверждает Владимир-Зеев в той же «Повести моих дней». Можно заранее пожалеть пожелавшего оспорить это утверждение!
По причине ли популярности романа «Пятеро», потому ли, что сборник переводов опередил книгу самостоятельной поэзии Жаботинского, только сборник «Я – сын своей поры» тоже не вызвал особого отклика. И тут речь не идет о сообщениях в одесских СМИ о презентации книги, и о самой книге. А о другом, о той атмосфере, которую порождает появление необычного, неординарного, яркого произведения. На уровне бытового диалога:
– Ты читал?
– А ты, читал?
– Вот это да!
– А вы до сих пор не прочли? Как же так, вы столько потеряли…
Прочли сборник стихов Жаботинского (большую часть которого составляют, кстати, переводы), прочли, и, что называется, «сверили часы». В таких случаях обычно цитируют Стругацких: «Какие погоды стоят? Предсказанные!». Тем самым говоря, что и сборник неплох (он просто не может быть плохим), что и стихи хороши, но ничего такого, чтобы «ах!», чтобы выше «Пятеро», чтобы открытие в нем, нет. Достойно, профессионально, даже великолепно, но планка уже взята, а стихи не выше той планки. Кроме одного знаменательного момента: три человека одновременно назвали лучшим стихотворением сборника «Мадригал». Не рассуждая и не вдаваясь в подробности, почему именно «Мадригал». Зацепило, понравилось, впечатлило – вот и весь сказ.
Потом произошел еще один характерный момент: ученики киевской еврейской школы, которыми руководит Геня Шапир, чтобы представить творчество Жаботинского, выбрали именно это стихотворение. Да еще Иосиф Недава, самый крупный, самый маститый и достойный исследователь жизни и деятельности Жаботинского, в своей статье о нем цитирует строки из «Мадригала», правда, в переводе с иврита: «Вся жизнь моя – цикл стихов, и в них царишь лишь ты одна». Как пишет Недава, «мадригал был сочинен в ее честь», то есть в честь Анны Гальпериной, жены Владимира Евгеньевича.
Что же получается? А то, что как минимум пятеро совершенно разных по возрасту, образованию, наконец, разных по литературным вкусам людей, остановили свой выбор на одном-единственном стихотворении Жаботинского. Значит что же? Значит, не таким уж «проходным» оказался сборник поэзии Владимира Евгеньевича, коль скоро есть там стихотворение, заставляющее так серьезно обратить на себя внимание.
Перечитайте «Мадригал», или прочтите, коль скоро вы не успели прочесть его. Ах, как много вы потеряли! Может быть, со времен Александра Сергеевича, не знала русская литература произведения столь лаконичного и столь совершенного. Чего только не отыскать в шести строфах и тридцати трех строках этого стихотворения! Оно начинается словами упрека, обращенными к поэту:
«Стихи – другим, вы мне сказали раз, –
А для меня и вдохновенье немо?»
Но может быть, вся жизнь моя – поэма,
И каждый лист в ней говорит о вас.»
Здесь – обезоруживающий ответ на справедливый упрек, и ответный упрек: «но может быть – вся жизнь моя – поэма…». В этом «может быть» столько смысла! «А неужто вы и не заметили, вы и не поняли до сих пор, что жив лишь вами, что в своей судьбе ориентируюсь лишь на вас, что все остальное неважно…» (Поэту довольно и двух слов, там, где простому смертному требуется целая тирада.) «…И каждый слог в ней говорит о вас» – такой галантностью, ставящей женщину в центр мироздания, отличались мадригалы и стихи «в альбом» XIX века. Пусть и формальные, написанные по долгу человека из хорошего общества. Но подобное отношение к даме возникло много раньше. Оно было выпестовано куртуазной поэзией трубадуров, имевшей сильнейшее влияние на всю последующую европейскую поэзию. В России, кстати, помимо светских стихов «в альбом», оно нашло отражение в культе Прекрасной дамы, созданном Владимиром Соловьевым, Александром Блоком и примкнувшим к ним символистами… Но то, что стало для других целым направлением в поэзии конца XIX и начала XX века – для Жаботинского – всего лишь выбранная, форма выражения. (К слову: верно выбранная форма, как правило, залог верности содержания.) В хрупкий сосуд изысканной, утонченной поэзии Жаботинский вливает всю свою бурную жизнь. И гениальность поэта в том, что стенки сосуда выдерживают этот сумасшедший напор:
«Когда-нибудь, за миг до той зари,
Когда Г-сподь пришлет за мной коляску,
И я на лбу почую Б-жью ласку,
И зов в ушах: «Я жду тебя, умри» —
Я сочиню за час до переправы
Поэмы той последние октавы.»
Здесь, как и в предыдущей строфе, – соединение несоединимого. И вся сложность отношения к Создателю, не только дарующего жизнь, но и отнимающего ее, и сознание неизбежности, и неприятие ее. Но при всей скорбности этой строфы в ней присутствует литературная игра, которую иначе, чем благодарность за дарованную жизнь, истолковать невозможно: «Поэмы той ПОСЛЕДНИЕ октавы».
«Первые октавы» – словесный штамп, трюизм. «Раздались первые октавы симфонии (оратории, концерта, мелодии) – сколько раз были написаны и произнесены эти слова. «Последние октавы» – так замечательно просто и от того гениально мог сказать только поэт. Так, между прочим, чтобы ранить сердце читающего. Дальше, на первый взгляд, без изысков:
«В ней будет много глав. Иной главы
Вам мрачными покажутся страницы.
Глухая ночь, без звезд – одни зарницы…
Но каждая зарница – это вы.
Между тем, и этой строфе сочетание байронической мрачной романтики и куртуазной поэзии дает право быть почти целой хрестоматией. Ну, а следующая строфа, для тех, кто помнит главу из «Пятеро»: «Исповедь на Ланжероне» носит совсем интимный характер:
«И будет там страница – вся в сирени,
Вся в трепете предутренней травы.
В игре лучей с росой. Но свет, и тени,
И каждая росинка – это вы».
Ну, а те, кто не читал помянутой главы, все равно почувствуют нерв весны и любви, дрожь крыльев в полете, протертые окна зари, переданные аллитерацией, настойчивым сочетанием согласных звуков: ТРепет ПРедуТРенней ТРавы…
Вслед за лирической передышкой следует анкета:
«И будет там вся быль моих скитаний,
Все родины, все десять языков,
Шуршание знамен и женских тканей,
Блеск эполет и грязь тюремной рвани,
Народный блеск и гомон кабаков.
Мой псевдоним и жизнь моя – «Качели»…
Но не забудь, куда б не залетели,
Качелей путь – вокруг одной черты,
И ось моих мечтаний – это ты».
Ах, как можно было бы расшифровать эту строфу, не отрываясь от текста «Повести моих дней». Каждой строке нашлось бы десять подтверждений, свидетельствующих о том, что Владимир Евгеньевич ни на волос не кривит душой. Одесса, Вильнус (Вильно), Рим, Берн, Стамбул, Берлин, Париж, Варшава, Иерусалим, сионисткие конгрессы и эмигрантские журналы, кишиневские газеты могут поклясться в том, что поэт говорит чистую правду. Тюрьмы Одессы и Акко, приемные министров в Лондоне и поля сражений близ Умм-а-Шарта в Заиорданьи не замедлят подтвердить правдивость его слов. Но, какое восхитительное соблюдение заданной формы, какой совершенный второй план! Переход с «вы» на «ты» в котором зашифровано адресование читателя к Пушкину. К тем пушкинским, когда-то всем известным стихам, в которых «Пустое «вы» сердечным «ты» она, обмолвясь, заменила». (Этот подтекст был замечен Еленой Богуславской, одной из немногих, которые на вопрос, кто такой Жаботинский, отвечают – поэт.)
И закрыть ли глаза на псевдоним Жаботинского, избранный им по неведению, но определивший его судьбу? «Мой псевдоним и жизнь моя – «качели»… Молодой журналист, еще не слишком хорошо зная итальянский, предполагал, что слово, выбранное им для подписи статей, означает «рычаг». Оказалось – «качели». Об этом неожиданном для выбирающего выборе и о мистической роли его в судьбе Жаботинского наверное стоит написать целое исследование. Впрочем, для поэта Жаботинского это исследование опять вмещено в одну единственную строку.
Последняя строфа «Мадригала» – повтор тем предыдущих строф, повтор игры, байроновской неприкаянности, непонятости, одиночества, куртуазности и предельной искренности, вины, попутно отмеченной отчетливыми метами ХХ века:
«Да, много струн моя сменила скрипка.
Играл на ней то звонко я, то хрипко –
И гимн, и джаз, играл у алтарей,
И по дворам, и просто так, без толку…
Но струны все мен свил Г-сподь из шелку
Твоих русалочьих кудрей.»
Сочетание слов «гимн и джаз» станет возможным в русской литературе лишь многие десятилетия спустя, уже в поэзии 1960-х, а пуще того, в поэзии постмодерна конца XX века и начала века XXI. Жаботинский в «Мадригале» не только впитал всю сущность предшествовавшей ему поэзии, но и предвосхитил ее будущность.
Тут, наверное, можно опуститься до лютой банальности и сказать, что если бы ничего кроме «Мадригала» Владимир Евгеньевич не написал бы в своей жизни, то и тогда вошел бы в ряд самых удивительных и значимых фигур столетия. Почувствуйте фальшь – стихотворение после опубликования его в Одессе было замечено очень немногими людьми. А с другой стороны, почувствуйте всю бессмертную непобедимость, бесконечную преемственность культуры. Мощь мировой поэзии, значимость слова и силы таланта.
Небольшое стихотворение Владимира (Зеева) Жаботинского «Мадригал» можно еще комментировать и комментировать, расшифровывать и расшифровывать. И можно было бы это сделать, опираясь на признания автора в любви к западноевропейской романтической поэзии, к нелюбви к русской прозе, к знанию его «половины стихов Пушкина наизусть». Но и без того ясно, что автор «Мадригала» обладал от рождения одним из самых высоких даров. Он был поэт.
Елена Каракина

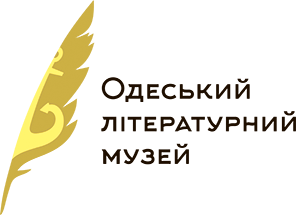
















Оставьте отзыв