«Самое большое мужество –терпение …»
Б.А. Нечерда, запись в дневнике от 4 июля 1988 г.
Борис Нечерда — поэт, писатель, журналист. Талант, который с годами вступил в силу и мог бы стать путеводной звездой постмодернизма украинской литературы. «Ясность, после которой наконец нам, всегда запоздалым современникам, становится понятно, какой великий поэт потерян. Или все-таки найден? — писал Ю. Андрухович о Нечерде.
Родился в Винницкой области, всю сознательную жизнь, с 17 лет и до последних дней Борис Нечерда прожил в Одессе. Однако сохранил украинскую аутентичность, был человеком, который жаждал быть и был самим собой. Все творчество поэта – попытка осмысления неповторимости и ценности внутреннего мира человека.
Нечерда многие годы вел дневник. Тетради делал сам, аккуратно переплетал – это было заветное. Волею судьбы в музее оказались три книги-дневника: 1988-1989 гг., 1989- 1995 гг. и последния – 1995-1997 гг. Их передала нам сестра поэта Нила Грибовская.
Это больше чем биографические бытовые записи. На страницах дневников много размышлений, нареканий, писатель не жалеет себя – «мой пессимизм питается моим личным бессилием». Человек с писательским даром предчувствует будущность, талантливый – становится пророком.
Из дневника 1995 года, 27 января: «… я читаю российскую прессу, аккуратно обсервую московское радио и ТВ, я скрупулезно анализирую « Свободу »на русском языке и все больше убеждаюсь в том, что с некоторых пор (собственно, не от времени нашей независимости ) продолжается целенаправленная, изобретательная и, надо признать, довольно-таки талантливо смоделированная пропаганда против Украины и украинства; при этом нет-нет да и проскользнет откровенно враждебная мысль о коварных хохлах, конфликт с которыми не только возможен, но и по своему неотвратим. Ясно, московские мудрецы при этом не забывают пролить крокодиловую слезу; мол, им трудно представить, как же это славянин будет убивать почти такого же славянина.
Но они будут убивать! То есть прикажут солдатской массе убивать, а сами умоют руки – на всякий случай. Синдром Пилата. »
Он писал не для нас – он пишет о себе, говорит с собой и обнаруживает глубины своего мышления. Когда читаешь эти строки, то переживаешь, понимаешь и видишь, что это и о тебе он говорит, твоим словам, только нашел их не ты.
Некоторые творческие работы писателя известны только из дневника — это неизвестный роман «Террористы» (записи 19 сентября, 15 и с др.), Может, потом этот замысел вошел в романы «Квадро» и «Священий мрець».
А на страницах дневника за 10 февраля говорится о стихах, которые потом войдут в «Останню книгу», изданную в 1998 г . после смерти поэта.
Выборка из дневника 1988 года.
Июнь, 15. 1988
«Какая страшная (…неразборчиво), что я застопорил работу над террористами! И тем самым избежал (в собственных глазах) бесчестия … Ведь всевозможные аллюзии, фига в кармане – это мужество нищих.
Роман повторю, но жестко. Украинская наша проза — сука, она заслуживает, чтобы ей выворачивали матку наизнанку.
Злость берет, как подумаю: как мы испуганы! За одиночными исключениями, украинская проза по-хуторянские сладкая, сентиментальная и – вторичная. Здесь я немного (гм?)согласен с Коротичем. Крепостная литература, и я в ней – раб, такой же несамостоятельный раб, которым и Гончар является, с его (даже) «Собором». … У нас расплодилось слишком много литературных генералов. Блеск игрушек и позы (вместо позиции), внешнее глубокомыслие и многословие, и респект. Но этот генералитет уподобился африканству: чем малочисленнее и недееспособнее голожопая армия, тем пышнее мундиры-регалии на генералах …
До боли угнетает мою хохлацкую душу нехохлацкий вопрос: как могло случиться такое, что у такого народа, как мой, не нашлось такого писателя и, мать нас так, поэта, уровня Булгакова с Платоновым, и Дудинцева, и Гроссмана и даже Рыбакова (несмотря на все), не говоря о Твардовском? Как?
Неужели перебежчики, типа Черниченко, правы– и украинской нации не хватает интеллекта? Нет, не стоит впадать в эмоции. Дело нужное. Работа. Даже с точным знанием, что все – в стол. На потом. Или на никогда. Должен, обязан так жить, так писать. Только бы вышел Сезон! Мне бы семью накормить, и от долгов избавиться, и смех , да и только, может, две рубашки прикупить. Рвет меня, мозолит и солит нутро замысел европейской действительно, украинской действительно, злой прозы. Это должен быть роман (не исключено, что с дедом Рембезом — в ряду других судеб-калик, судеб-незтинцив) с привлекательной новой концепцией.
Фабула уже наглядная, уже существует, уже жива. И речь жесткая; плотью украинский, в дополнение мягкая, словно перчатка боксерская, но в навоз такую кувалду, что как свалит – конь с копыт.
Я купаюсь, радуюсь только составленным фразам, перечитываю черновик и каждый раз будто впервые в жизни, открываю и удивляюсь богатству и всеможности родного языка. Ой, не рабская она, не сладкое только лемдзяло, а инструмент угрожающий и добросердечный!»
Июнь, 30. 1988.
«Опять неотвратимым условием существования писателя наступит молчание, а фига в кармане – как обычное проявление мужества. Из соображений меркантильных: мой роман, в его нынешнем виде света не увидит. Я снова опоздал! Хотя на этот раз «оттепель» длилась целых три года. Жаль, что роман – в стол. А жаль еще больше, что в нем многое только названо! Так себе. «Аптека. Улица. Фонарь ».
Спрашивается: что я буду делать дальше? А – писать! Прежде: подтачивает «Избранное» (когда-то и получится). Добью «Террористов». Или наоборот — начну роман абсолютно для меня новый. Соответствующий сегодняшнему моему уровню мышления и оценке жизни.
Как говорится, еще не умерла. И еще. Надо серьезно заняться здоровьем. Только здоровый дядя способен будет осилить грядущее безвременье.»
Июль, 4.1988
«Полстолетия за плечами – а без дома. Сам виноват! Ленивый и неповоротливый в ситуациях бытовых. По течению все. Вот и несет река.
Подумал: самое большое мужество – терпение. То есть когда терпишь и носишь свою пожилую мудрость, пользы от которой не больше чем от юношеского оптимизма, который обычно не оправдывается из-за чрезмерного запаса лет жизни впереди.
Ограниченность, монашество желаний и комфорта в частности – это залог возможного совершенствования. Писательству нужен паек, разумное дозирование. В правильности этого суждения я убеждаюсь на собственной шкуре.»
Июль, 5. 1988
«Интересные времена выпадает мне пережить. Их в запальчивости зовут иногда судьбоносными. От них не отмахнуться, а между тем …
Разум одно говорит (не поддавайся гипноза говорильни, не дай себя обмануть), а душа — другое: наш верх! Урря! «Все позволено, что не запрещено законом». Зато молчит что- то третье … Вот, например. «Почему молчат поэты ?! — пришел (как приходят другие) и спросил Евгений Дементьев, между прочим, тоже будущий поэт (возможно). – Кстати, не захлебнулись они свободой? » (Это как — кукушка подавилась колоском? .. Впрочем, я предостерег себя: в этих заметках по возможности обходиться без метафор и прочих «красивостей», – только суть, самый реестр).
«Свободы не снесли, слишком тяжела ноша?» — продолжал Д-в.
Оставлю на его совести премудрое определение (но какая завидная уверенность, ха) — свобода. Для порядочного человека– мало провозгласить себе «Отныне я свободен!» На подверстку требуется значительная политическая культура. А сегодня, считаю, общая политическая культура низкая, то есть ее ровно столько, чтобы хватило на то, чтобы еще хрупкая общественная демократизация стала обреченной на возвращение к тирании.
Попутно можно было бы напомнить философские постулаты о тирании, о ее обреченности …, но те утешительные сказки меня не касаются.
Однако, в одном Д-в таки прав: поэты молчат. Вот критики, публицисты, «чистые» прозаики, в известной степени драматурги – те кричат, рубашки рвут (на себе и друг на друге): обвиняют друг друга во всех смертных грехах, сводят счеты, всяк на свой лад отстаивают собственную значимость ( или «первенство» в перестройке, преданность ей), смешивают противников с дерьмом; что их истина – истинная, последняя-инстанционная.
Шум-гам, птичий базар.
Я далек от понятия, будто во всем этом нет согласия, организованности, наоборот – я даже угадываю организаторскую руку, и подозреваю, кому это выгодно. Все это – это и означает «это»: переварить интеллигенцию, не дать ей консолидироваться. А потому не дать усмотреть простой житейский трюк: подмена сути фразой. Такова мысль диалектика: за революционером идет функционер, аппаратчик новой масти.
Черт с ним! Шум – и шум. Своя польза в этом тоже есть. Кроме очевидного, неразумного застолбления каждым из многих крикунов индивидуального Клондайка. На этом фоне поэты– что же? Молчат. Онемели. »
Июль, 6. 1988
«Вчера не осилил дописать –ночь выдалась душной. Баня!
Итак поэты отмалчиваются. Все. Лучшие. Настоящие. Мною любимые. Не верю, а уверен, что все это – от большей совестливости, большей детскости. И инструмент их – ювелирно тонкий, ломкий, легче поддается розбалансировке.
А тут еще и эта бредовая свобода … Когда нет необходимости представлять мастерство как можно высшей пробы, пряча «крамольный» в кавычках подтекст в еще в более глубокий подтекст!
Поэты – потому испокон так вот заэзопилось …
И еще одна досужая мысль. Свобода –категория не только философская, «прайдовая», но и заиндивидуализованная (вплоть до физиологии) психологически.
И еще. На нынешнем этапе над категорией переосмысления написанного верховенствует категория отречения.
Покаяние втрое легче отречения. Но существует продолжение! По себе сужу (ясное дело, без аналогий с другими поэтами). Ловлю себя на желании каждую свою книгу переписать заново. И то бы не составило особого труда, а принуждение –подавно. Ведь помню, глазом вижу, прикосновением пальцев по типографских строках – угадываю здоровый замысел вещи, первоначальный, чистый (может, и равный маленькому открытию). И куда это все делось, на какие псы пропало? Сам виноват, сам: позволил насилие.
И не все до единого произведения были – в большей или меньшей степени –обструганные, искаженные, нивелированные.
Нечерды, которого знаю, в тех книгах нет. Все. Крест! И достаточно.»
Сентябрь, 17 (суббота), 1988
«Читал Гоголя и Библию.»
Сентябрь, 18. 1988
«Гоголь и Библия. Снова.
Все больше догадываюсь, почему в конце жизни, в шаге от пропасти (и безумия в том числе), за три шага назад от общества Николай Васильевич ушел в религию.
Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастия размышляй (Еккл.7.14) »
Октябрь, 27
«… пришло в голову: мое время – наступит, не может не наступить, однако это наступление –отдалено, это так же бесспорно, как несомненное моя генетическая закодированность на осложнения и неудачи.
Редко кого из моих современников сопровождает в жизни такой эскорт лишений. Но похоже они, как это неестественно, питают мои замыслы. Как бы то ни было, написать еще успею – много. Имею о чем. Знаю –как.»
Ноябрь, 15
«… сидел у нас Ш. Кряхтел, ругал себя за бездарность, я же тем временем правил, переписывал строки его рукописи.
Работы с книгой Д.Ш. много. Однако она напрасное дело в принципе: большинство стихотворений и в замысле их, а тем более в исполнении, –непрофессиональные, безжизненные, тупые до белого каления! Тогда почему спрашивается, взял я на себя такую скучную работу? А – жалько! В данном случае здесь не чуткость, не отзывчивость, что походит на милосердие (как, например, жалеют калеку), тут нечто иное … Унизительнее для того, кто жалеет. Потому что: такие «поэзы» (Ш. уровня) печатаются на расхват, и будут печататься, спокон века, потому что они устраивают катострофически низкий, рабский уровень украинской литературы, тогда как самоистезатель Нечерда с его уровнем, с его мыслями – заблаговременный, вообще преждевременный, ибо: имеется в наличии обойма талантливых бесспорно, но– сытых, «игроков» в геройство и риск. Я их не осуждаю, но и не завидую им: их сытости, их хлебу и к хлебу, так: по-своему они несчастнее меня несмотря на их важность и частопечатанье … Просто так складывались литературные судьбы.
Мой крест: мелочиться во имя очередного приработка, надеяться на призрачное «лучше» и оставить после смерти какой-никакой архив ненапечатанного, которым еще неизвестно как сумеет распорядиться Ольга Евгеньивна Данилова (Нечерда).
Впрочем, и в таком христоношении свои преимущества есть.»
Февраль, 10
«За неполных десять дней как-то упруго, запоем (как «Ладу» когда-то) закончил Гадюку и Приют, не давались, а в придачу написал (всего — более 350 строк) таких вещей, на их появление еще месяц назад и надеяться не мог.
Во-первых, «Трактат» очень горестная, очень личная вещь (цикл? поэма? Бог знает что).
Во-вторых (в ряду прочего): Беломорканал, Реконструкция хлебореза, Талант.
В них уже содержится несколько от моего замысла о книге стихов Европы. А одна штука и самого поразила.
Поки означився вищерб
під пересварку газет,
сонце підбилося вище
лету відкритих гусей.
Сонце підбилося вище,
а на землі , як і перш:
– вкрали картину да Вінчі…
– поміж собою дівиці
крутять любов, і не без…
Лиш-но зі співом allegro
картку-відстрочку та німб
видали з «Атоменерго»
матері вмерлій і мені.
Так вот, рукопись удалась такой, что сколько бы и что бы из неё не изымали, останется корень. Потому что корень – в каждом стихотворении. Ведь я над т.н. «старыми» вещами поработал дай бог! Усилил, обострил, оскалил (от — искренности, а не от оскала зубовного).»
Март, 5
«Надо пристать к какому берегу. Выбор – штука все-таки преимущественно эмоциональная. Ум, мировоззрение, вообще интеллект – увы, подчиняются чувствам, даже когда они, чувства, противоречат инстинкту самосохранения.
Все это да, не спорю, но ведь любая идея –не женщина, чтобы ее любить.
Впрочем, нечто подобное (утверждение, пожалуй, по другому поводу) читал недавно где-то.
А в целом все это не помешает мне: приставать.
Жаль, что снова чувствую себя плохо, те или иные болячки донимают. Впрочем, это метеодни обозначаются следующим кандибобером на здоровье.
Шанс возродить себя в собственных глазах и добиться самоуважения. Больше никогда судьба не предоставит.»
Татьяна Заярная

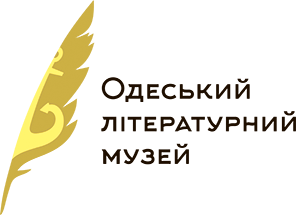
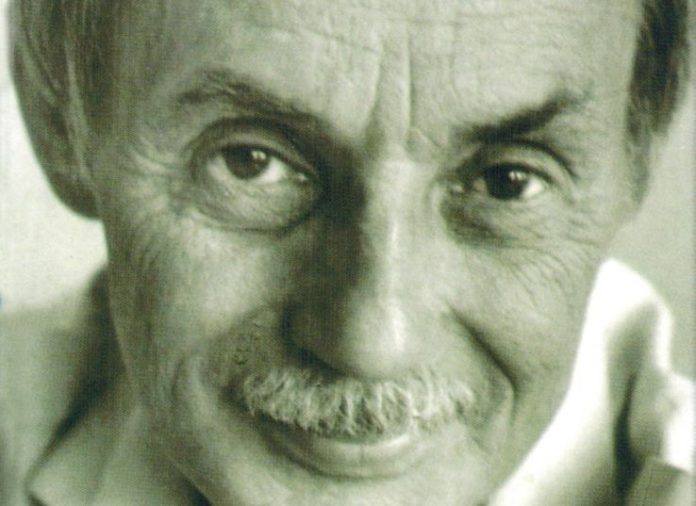



Оставьте отзыв