День народження одного з кращих, найбільш значних поетів нашого міста Юрія Миколайовича Михайлика.
Його вірші, красиві і точні, пронизані філософською думкою, наповнені любов’ю до рідного міста, до Чорного моря.
Юрій Миколайович часто виступав в Одеському Літературному музеї, дружив з його співробітниками. З 1993 року живе в Австралії.
«Дружбу з Михайликом я завжди вважав і вважаю щастям. В Одесі він, безумовно, був першим поетом. Безглуздо сперечатися, чи мусить їхати поет зі свого міста. Можна лише припустити, що не кожному, як Бродському, Набокову, Аксьонову, вдається поїхати зі своєї мови… Михайлик живе дивовижним життям єдиного руського поета в чужій країні. Він завжди був справжнім героєм свого міста – його поезія була… справжньою. В нього завжди було багато Одеси і багато моря: тільняшки, шаланди, прибережний обрив, гудки пароплавів…».
М. Гаузнер
ЮРИЙ МИХАЙЛИК
ОДЕССА
Столько лет волна стучала
в этот берег одичалый,
столько лет его качало,
что другого ритма нет.
Голосам людей сначала
только море отвечало.
Этот город величавый
Был написан, как сонет.
Что за славное начало –
срифмовать бульвар с причалом,
а потом двумя лучами
уходить за морем вслед,
чтобы улицы звучали,
помня море за плечами,
и безлунными ночами
излучали зыбкий свет.
Это море создавало
легкий привкус карнавала –
слишком грозно бушевало,
слишком громко горевало
слишком быстро утихало,
удивляя тишиной.
Кто ссылал сюда поэтов,
ничего не смыслил в этом –
ни в тенетах, ни в запретах,
ни в сонетах, ни в поэтах,
ни в лучах добра и света
над прибрежною волной.
***
Мимо грядок, оградок, ларьков, пионерлагерей,
мимо редких дверей в нескончаемом дачном заборе,
мимо пыльных акаций на каменных плитах – скорей!
И откроется море.
Чаша Черного моря под куполом светлых небес.
Голубое, зеленое, серое, сизо-стальное.
Что ты помнил о счастье, пока тебя не было здесь,
что ты знал о просторе, о воле, о медленном зное?
Понт Эвксинский, таласса, кипенье и пенье веков,
колотящихся в сердце, как память его и забвенье,
и гряда горизонта под дальней грядой облаков
долгожданней любви, и внезапней любви, и мгновенней.
Что ты помнил о счастье? Но горькая эта вода
будет в берег стучать до урочного часа,
чтоб откликнулось сердце и ты воротился сюда.
И откроется море – дыханье, сиянье, таласса.
***
У городов, бесспорно, есть отличья –
где скромность, где известность, где величье,
где старый парк, где Липки, где бульвар…
Здесь жил поэт. Гулял, шалил, влюблялся.
А там отроду он не появлялся,
еще и хвастал тем, что не бывал.
Есть в городе моем среди диковин
одна, которой я обеспокоен:
в Одессе конных памятников нет.
Ни в прежние года, ни в наши лета
не устранили недостаток этот
ни местный, ни заезжий Фальконет.
Ну, с местными все ясно и резонно –
они уже слепили из бетона
скульптуру под названием «тритон»,
и город содрогнулся и поверил,
что это просто памятник холере –
настолько он похож на вибрион.
Но и в столицах ни один ваятель
не взял в расчет одесских обстоятельств.
Создай же нам, святое ремесло,
хотя б коня. Пусть одного сначала.
А всадников в истории немало,
и мы б нашли, кого сажать в седло.
А без коней в Одессе очень странно.
И так уж есть Фонтан, где нет фонтана,
есть Мельницы, где мельниц ни следа,
и Молдаванка есть без молдаванов,
Черемушки, где в липах и каштанах
черемухой не пахло никогда.
Все это непонятно и двояко.
Граф Воронцов отменный был вояка.
Могли б в Одессе восседать верхом
Суворов дерзкий, иль Румянцев стойкий,
или хотя бы Гоголь в птице-тройке,
иль просто бог весть кто на бог весть ком.
Незанятое лошадьми пространство –
места, где бродят тени вольтерьянства.
УХА
Итак, создается тройная уха!
Сначала берется шпана, чепуха,
Нахальная злая рыбешка.
Ее посоли, поперчи, отвари,
и вылови ложкой, и в кучку свали,
и насухо вылижи ложку.
Потом добавляй понемногу огня,
чтоб крупная рыба, весь дух сохраня,
сварилась, но не развалилась,
а чтобы светилась уха изнутри,
моркови добавь и чеснок разотри.
Смотри, чтоб неярко светилась!
Готово, сварилась. И все-таки ты
Обязан быть выше голодной тщеты,
Жратвы, суеты, нетерпенья.
Ведь дело не в том, чтобы скоро поесть!
Тройная уха –
Это высшая честь,
Искусство на уровне пенья.
И нужен особый жестокий талант,
Когда уже миски стоят на столах
И солнце стекает по склону,
Вторую уху из котла отцедить,
Огонь приубавить, уголья разбить
И третью варить непреклонно.
Ну что ж, запевай, мой веселый солист!
Последняя рыба в охотку солись,
варись, шевелись и усердствуй!
А красного перца каленый стручок
до самого сердца тебя пропечет,
прогреет до самого сердца.
Вот так создается тройная уха.
Вот ложка берется чиста и суха.
Вот хлеба краюха такая.
Вот лодка у берега молча стоит.
Вот небо далекую тучу таит.
Вот море к ногам подступает.
***
Не первые мы, не вторые
Кто звал эту землю своей.
В курганных степях Киммерии
Могилы бессмертных царей.
Знакомая черная стая
Снижается над головой,
Тяжелые крылья пластая
Над крашеной красным травой.
И топот табунный, чугунный
И поле от пыли темно…
А готы идут или гунны –
Убитым не все ли равно?
***
Летний сон. Полночная прохлада.
Мягкий звук – во сне иль наяву?
Ты не бойся, – там, во мраке сада,
абрикосы падают в траву.
Тихий отдаленный ритм прибоя
медленно качается вдали,
словно предназначен нам с тобою
краткий промельк жизни и любви.
Зыбкими мерцающими снами
мир и сад качаются в стекле.
Ты не бойся – это было с нами.
Может, только с нами на земле.
Ничего другого мне не надо,
пусть приснятся, если доживу, –
сонный сад, июль, во мраке сада
абрикосы падают в траву
***
На Платоновском молу варят черную смолу,
ветер сбрасывает в море золоченую золу.
Солнце, адская жара, жар небес и жар костра,
обожженными бортами ждут шпаклевки катера.
Ты кипи, смола, кипи, ты терпи, котел, терпи,
ты, матросик полуголый, пошевеливай – не спи.
На молу лежит вельбот, переломан левый борт,
ни на что уже не годен, на дрова теперь пойдет.
Жил ты, плавал, путь один – алый пламень, черный дым…
От золы веселый дьявол стал седым, совсем седым.
Черный дым столбом стоит, чайка черная парит,
Там другой котел на небе адским пламенем горит.
Два огня и два котла, и кипит, кипит смола,
облака летят по небу золотые как зола.
О, времена как семена – они живут под спудом,
давно ушли под слой земли, и все же тут как тут…
Из темноты, из немоты, неведомо откуда
они еще произойдут, еще произрастут.
Там, в нежном городе моем, в девичьем полукруге,
где прежде был трамвайный круг, и книжный магазин,
они щебечут и поют, прелестные подруги,
и аккуратно – не разлей! – в бутылки льют бензин.
Там, в зыбком городе моем, зеленою порою,
когда летит по мостовым акаций первый снег,
вовсю гуляют днем с огнем идейные герои,
а безыдейные горят. Четырнадцатый век.
А век семнадцатый хорош, там сабель звон и скрежет,
Над Диким полем воронье, и плач, и рабский страх,
И все с утра хотят добра, и кто кого зарежет,
и кто кому кого продаст в Стамбуле на торгах?
Там, в добром городе моем, всю злобу отработав,
чему еще четвертый век сумеет научить?
Довольно просто разлучить вестготов и остготов.
Довольно просто разлучить, но трудно различить.
***
От центра города до пригородов бетонных,
набравший скорость на коротенькой прямой,
трамвай раскачивает сонных и полусонных
на тонких нитках между кладбищем и тюрьмой.
И, в такт покачиваясь, вплывают помимо взгляда
в двойное зеркало вагонного окна
стена тюремная, кладбищенская ограда
и беспокойная конвойная луна.
И, в такт покачиваясь, ты можешь избрать любое –
налево временно, направо уже навек.
А что досталось нам от нежности и любови,
так это, видимо, считается за побег.
И, в такт покачиваясь, единственная дорога,
как ни извилиста, а все приведет сюда –
к двум тонким ниточкам от острога до Бога,
до окончательного приговора суда.
Сирень бушует над кладбищенскою оградой,
в колючей проволоке стены тюремной излом.
Прости нас, Господи. А миловать нас не надо.
Все с нами правильно. Все будет нам поделом.
***
Я прислушаюсь, дрогну, пойму – и с ума сойду,
ибо это играет оркестр в городском саду.
Над зеленой, холеной, над стриженою травой
это жизнь моя, кажется, кружится вниз головой.
В центре города, в парке, в огнях с четырех сторон,
в черных фраках и в бабочках, будто бы слет ворон,
и послушная палочке кружится на траве
сумасшедшая нищенка с перьями в голове.
Просто музыка в праздничный вечер – и все дела.
Это надо же, господи, все-таки догнала.
Через три континента, над прозеленью морской,
долетела, нашла и качается вниз башкой.
Да какое мне дело? Подумаешь, наплевать!
Это девочка пела, учившая танцевать.
А старуха, приплясывая, видит наискосок
сумасшедшего лысого, плачущего под вальсок.

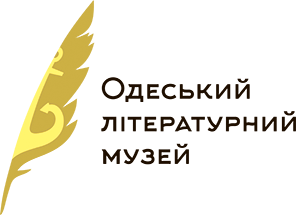

Залиште відгук